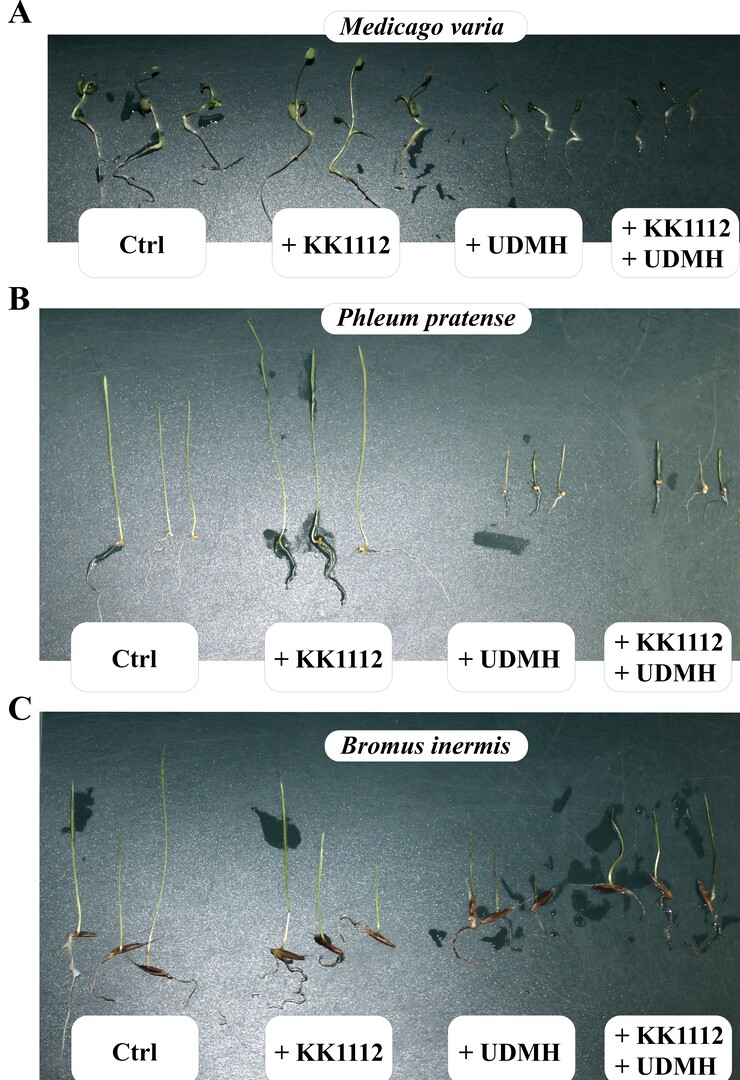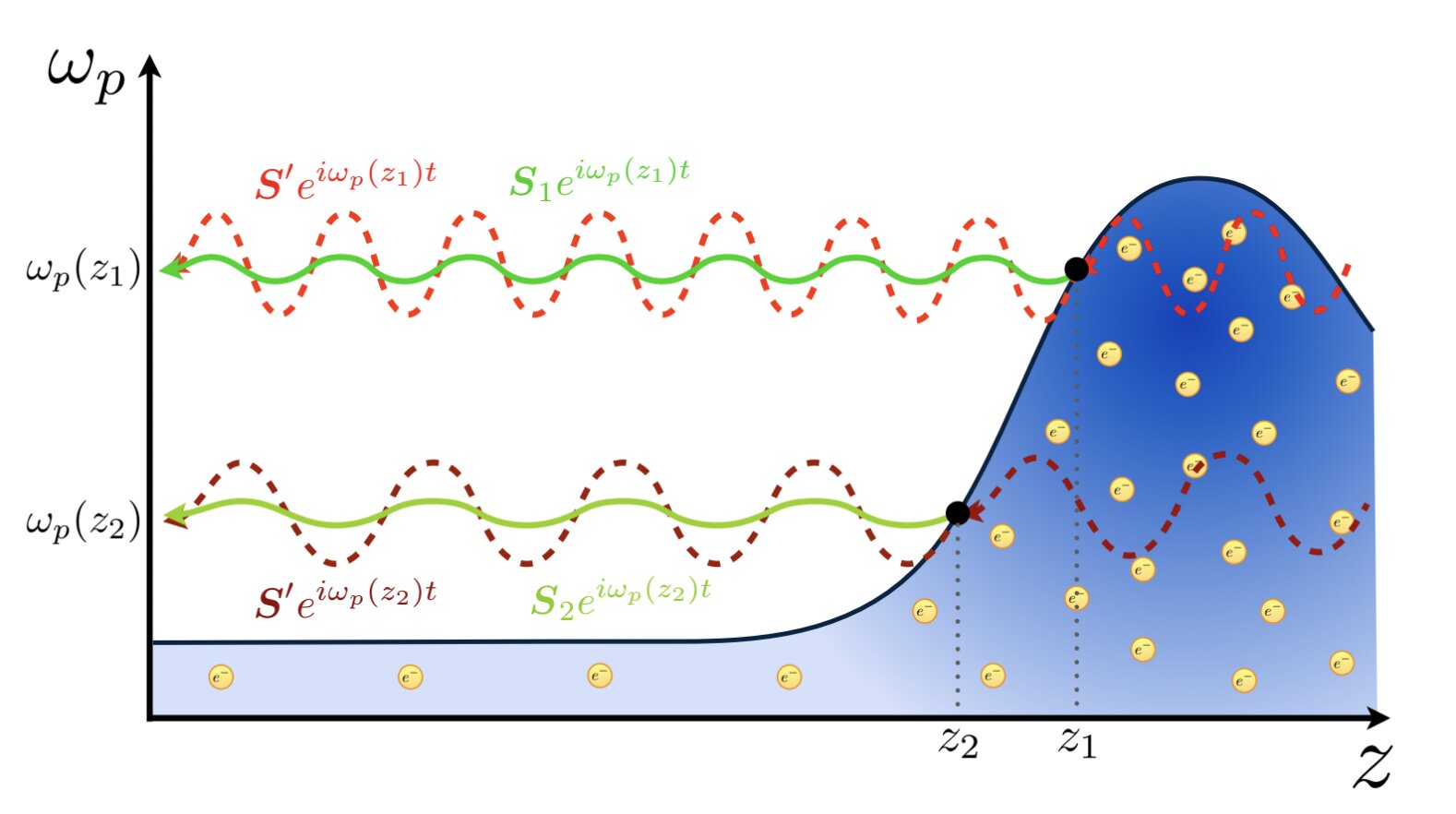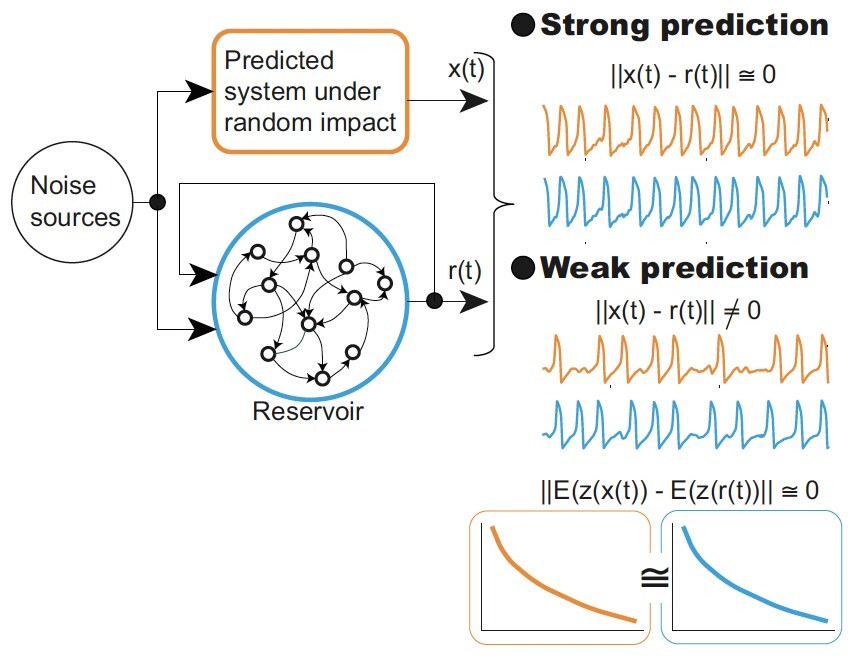Борис Титов: «ESG-повестка переживает сейчас кризис»
3 апреля в Общественной палате РФ состоится международный форум «Университеты, бизнес и изменение климата. Территория ШОС». О трендах мировой ESG-повестки, вовлечении в ESG-повестку среднего бизнеса и развитии рынка финансовой компенсации выбросов CO2 — в нашем интервью с Борисом Титовым, спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

3 апреля в Общественной палате РФ состоится международный форум «Университеты, бизнес и изменение климата. Территория ШОС». О трендах мировой ESG-повестки, вовлечении в ESG-повестку среднего бизнеса и развитии рынка финансовой компенсации выбросов CO2 — в нашем интервью с Борисом Титовым, спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
— Борис Юрьевич, Вы активно взаимодействуете по вопросам ESG повестки с представителями самых разных стран (среди них, например, и Иран, и США, и Германия). Считаете ли Вы, что эта повестка может стать некой «объединяющей» силой? Какой условный лозунг этого направления можно было бы озвучить?
— Движение компании к более ответственному поведению — в этом нет ничего плохого, только хорошее. Но в мире несколько «пережали» гайки в пользу климатического финансирования.
Яркий пример — ЕС, который сейчас разбирается с последствиями усиления своих же климатических норм для компаний, избыточной ESG-отчетности, опять же, в сфере углеродных выбросов. В итоге работать стало просто неэффективно. Как реакция — предлагается как вариант отсрочка начала выплат по пресловутому углеродному налогу CBAM до 2027 года, упрощение норм отчетности «об ответственности», где надо детально отслеживать действия своих поставщиков. В общем, переборщили, и там это сейчас осознают.
Но самая сильная реакция в США в планах законодательство, которое запретит учитывать ESG при инвестиционных решениях. В начале этого года из так называемого «Альянса чистого нуля» по выбросам вышли Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Blackrock и многие другие. За ними, кстати, последовали Deloitte, канадские банки и крупные японские корпорации. Просто, когда условия не для всех одинаковые, это перестает работать.
То есть ESG-повестка переживает сейчас кризис. Во многом из-за того, что многие стали использовать ее в свою экономическую пользу, например ЕС, которая ввела трансграничный углеродный налог. Другие страны восприняли это как использование благой цели для экономической выгоды ЕС.
Другими словами, шило в мешке не утаишь. ESG — это про равные возможности, ответственность, заботу о природе и социальные цели. Но когда становится инструментом экономики и политики, это многим не нравится.
Российский подход сейчас я бы назвал правильным — мы никому ничего не навязываем, но будем вводить инструмент, который будет стимулировать компании к этим хорошим целям — Стандарт «Общественного капитала» бизнеса АСИ.
Как раз для объединения мы одной из идей видим общую работу в БРИКС, ШОС, обмен опытом и гармонизацию стандартов, но в будущем. Надо понимать, что сейчас разнообразие подходов к ESG предполагает очень долгую работу по сближению.
Но это ESG, это для бизнеса. Если иметь более широкий контекст — ЦУР, то они и должны были стать объединяющими для мира. Но получилось далеко не все, это признают в ООН.
Нужна перезагрузка.
Доклад Генсека ООН от 3 января 2025 года (Trends and progress in international development cooperation, E/2025/8) прямо говорит — координация хромает, а политическая разобщенность добивает ее на корню.
Появляются новые вызовы — замещающий рабочие места искусственный интеллект, который грозит «выключить» с рынка труда миллионы людей стран Глобального Юга, киберугрозы, цифровое неравенство.
Старые, меж тем, не разрешены — отсутствие средств для развития, изменение климата, неравенство остаются проблемами, как и 10 лет назад, потому что не определены реальные инструменты, которые могут помочь в их решениях для более чем половины мирового населения.
Скорее всего, для повестки ЦУР придет время переформатирования.
Мы видим эту работу следующим образом: уже сейчас подумать над следующей итерацией ЦУР после 2030 года:
• приоритезировать цели, возможно, создать разные наборы целей для разных групп стран;
• конкретизировать программы первоочередных действий, выработать результативные пути к достижению;
• заранее определить ресурсное обеспечение, решить вопросы управления программами и финансирования.
Набор целей, скорее всего, не может быть столь масштабным и универсальным, общими могут быть только основные цели.
И работать проще странам, у которых общие подходы, проблемы, видение на перспективу. В нашем случае сейчас это БРИКС и ШОС.
Так что новый лозунг: «Проще, конкретнее и с реальными инструментами». Это большая работа.
— Какого вектора следует держаться вузам РФ для получения выгоды от вовлечения в «зеленую» повестку?
— Наши вузы многие активно работают в этой сфере. Так, проект ВИП ГЗ дал реальное финансирование на климатические исследование. Многие студенты заинтересованы реальными программами в сфере ESG, климата, устойчивого развития. Наши вузы вполне конкурентны в этом направлении.
Стоит пожелать, чтобы исследования в этой области продолжились, государственное финансирование не останавливалось.
У нас много и практических вопросов — энергоэффективность, новые источники энергии и исследование причин изменения климата, можно входить в международные альянсы.
Особенно востребованным будет не просто стандартное обучение текущим принципам ESG, а тенденции, изменения, pro e contra. Компаниями будет необходима объективная оценка, таких специалистов надо готовить.
— Как бы охарактеризовали степень вовлечения среднего бизнеса в ESG-повестку?
— Чтобы не быть голословным: в 2022 году Институт Столыпина проводил опрос, где ставил соответствующий вопрос: «Знакомы ли Вы с ESG повесткой — реализует ли Ваш бизнес программы по улучшению экологии, социальные программы (улучшение отношения к персоналу, поставщикам, клиентам и партнерам), противодействия коррупции на уровне руководства компании, контроля соблюдения правовых норм и этических стандартов?».
Так вот, среди среднего бизнеса распределение следующее:
• бизнес участвует в программах по сохранению экологии и снижению вредных выбросов — 18,31%;
• бизнес реализует специальные социальные программы — 4,23%;
• бизнес участвует в программах по соблюдению соответствия правовым и этическим стандартам — 10,56%;
• бизнес ведет программы по нескольким ESG направлениям — 6,34%;
• не участвуем в подобных ESG-программах, так как нет необходимости — 28,17%;
• не участвуем в подобных ESG-программах, так как не знаем как — 14,79%;
• не участвуем в подобных ESG-программах, так как это избыточные затраты — 17,61%;
То есть около 60% среднего бизнеса повестку не ведут. В крупном бизнесе никак не ведут повестку 43%. Но в малом и микро никак не реализуют ESG повестку 79% бизнеса.
То есть в среднем бизнесе ситуация не плохая. Рассчитываем, что внимание к ESG вырастет с отечественным Стандартом «Общественного капитала» бизнеса АСИ, для этого надо сделать отчетность максимально простой для малого бизнеса, чуть более сложной для среднего, для крупного можно запрашивать более подробные данные, система отчетности там налажена уже с учетом международных стандартов.
— Каковы перспективы рынка купли-продажи выбросов и поглощения CO2 на уровне ШОС?
— Пожалуй, это вопрос после 2030 года. Ключевой рынок сейчас Китай, там есть реальная система углеродных платежей за превышение выбросов CO2 и рынок углеродных единиц. Но этот рынок внутренний. Китай может ограничить угольную энергетику только после 2030 года, запретить новые угольные станции. Это его стратегия, раньше точно нет. А с развитием ситуации в мире запрет может вообще и не быть введен.
Поэтому таких объективных драйверов, чтобы рынок прямо сейчас появился — нет в принципе.
Для начала надо провести работу по гармонизации стандартов, однозначному пониманию, что такое проекты по сокращению CO2, запустить механизм обмена углеродными единицами по статье 6.2, 6.4 Парижского соглашения ООН по климату.
Чтобы отработать механизм, должны быть экономические стимулы. Такие стимулы можно в принципе предусмотреть на уровне ШОС, но это уже политические и бюджетные решения.
Возможно, цели по CO2 здесь должны быть совмещены с экологическими целями, которые для стран все чаще теперь важнее.
Здесь должно быть взвешенное и разумное обсуждение в соответствие с реалиями дня.




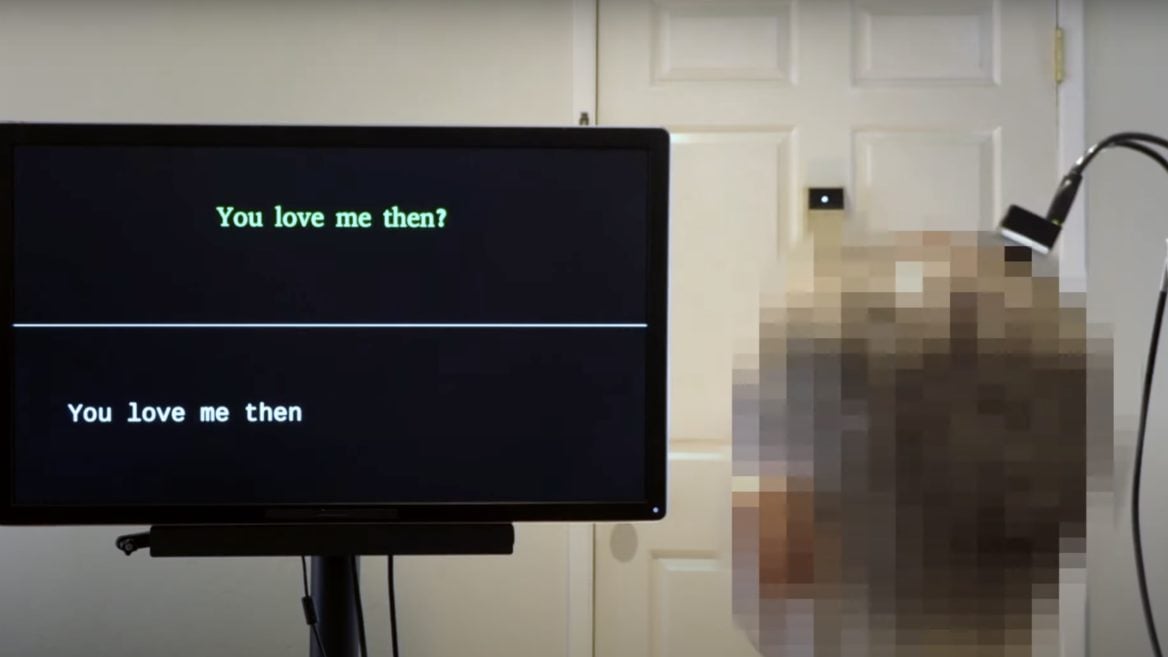


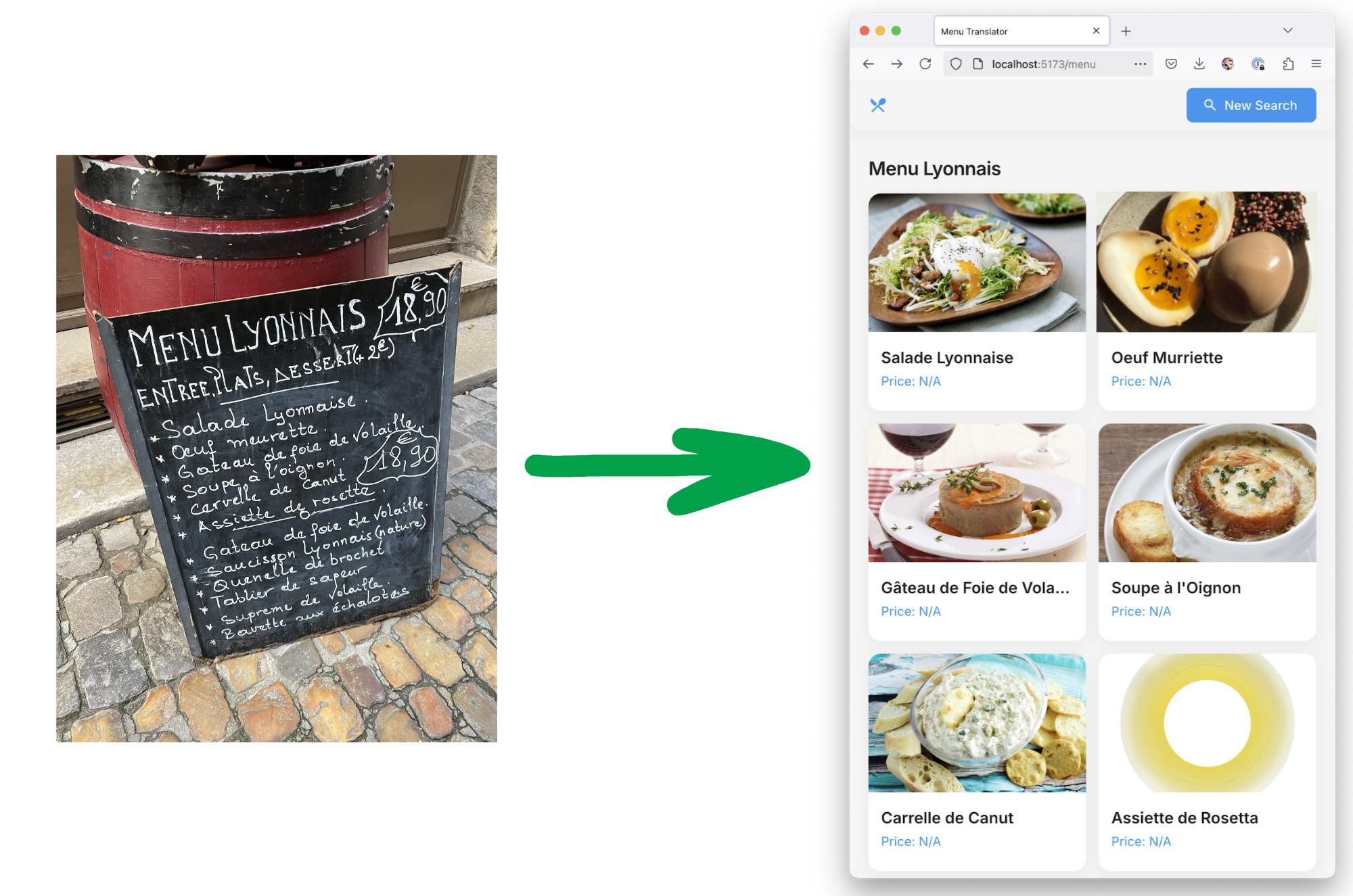

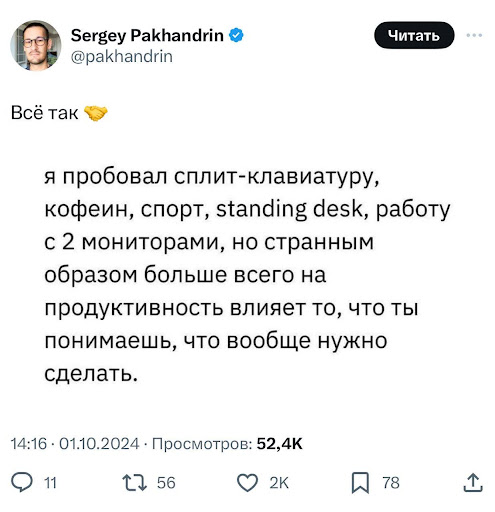
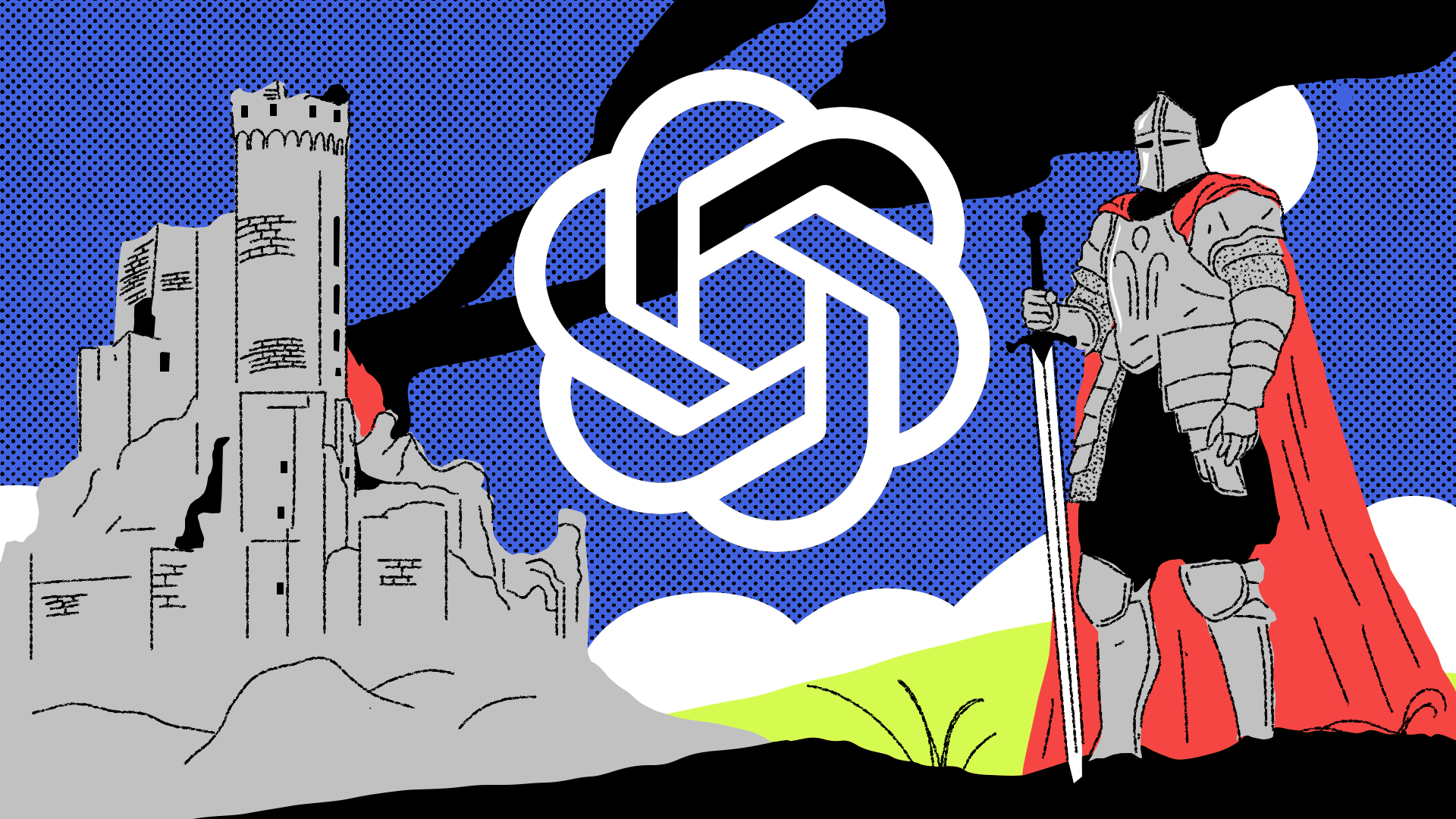







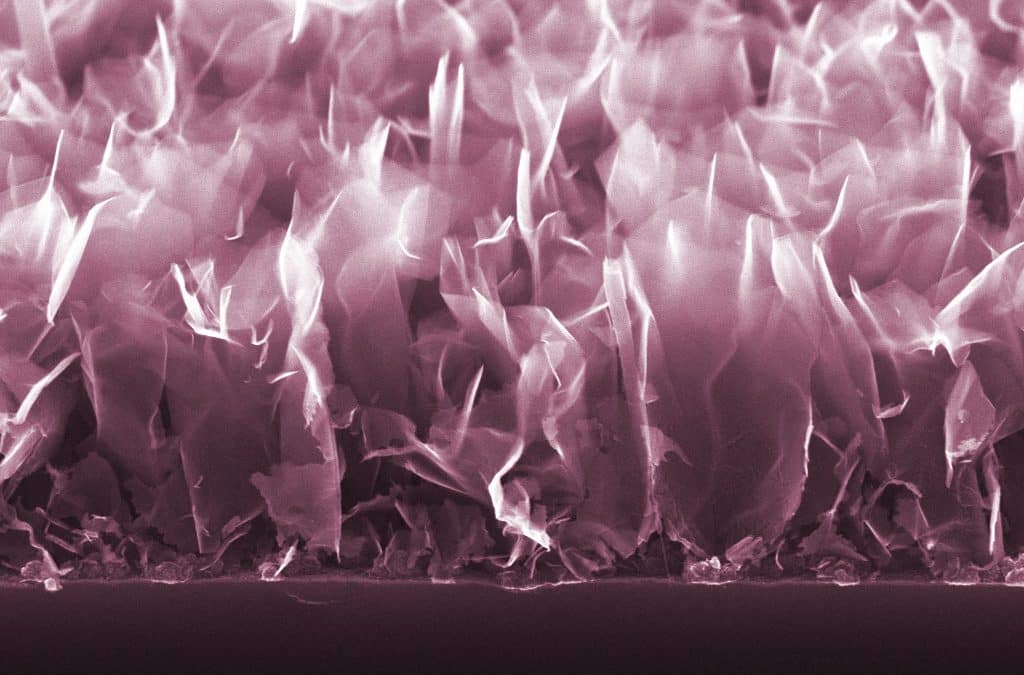



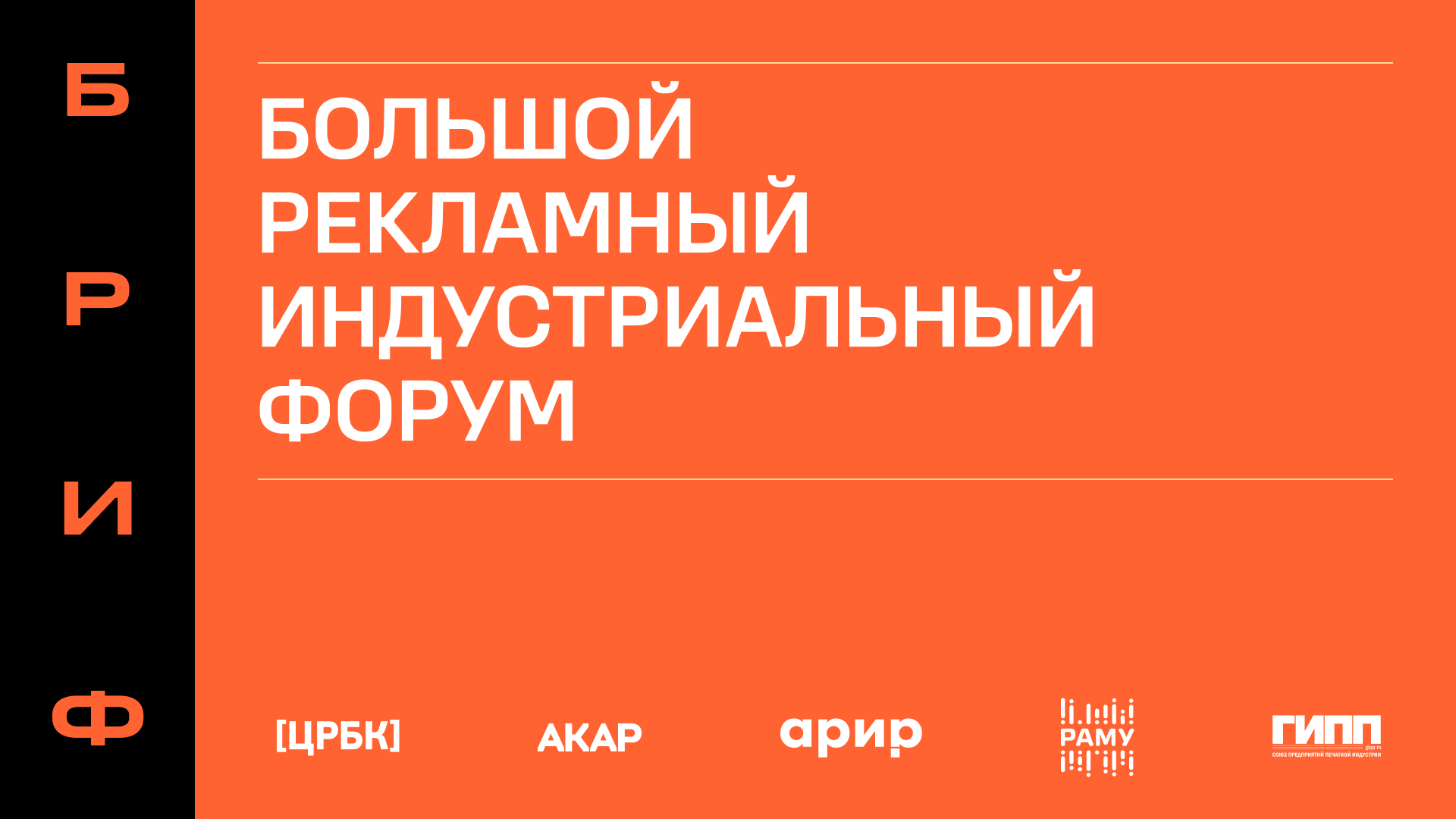

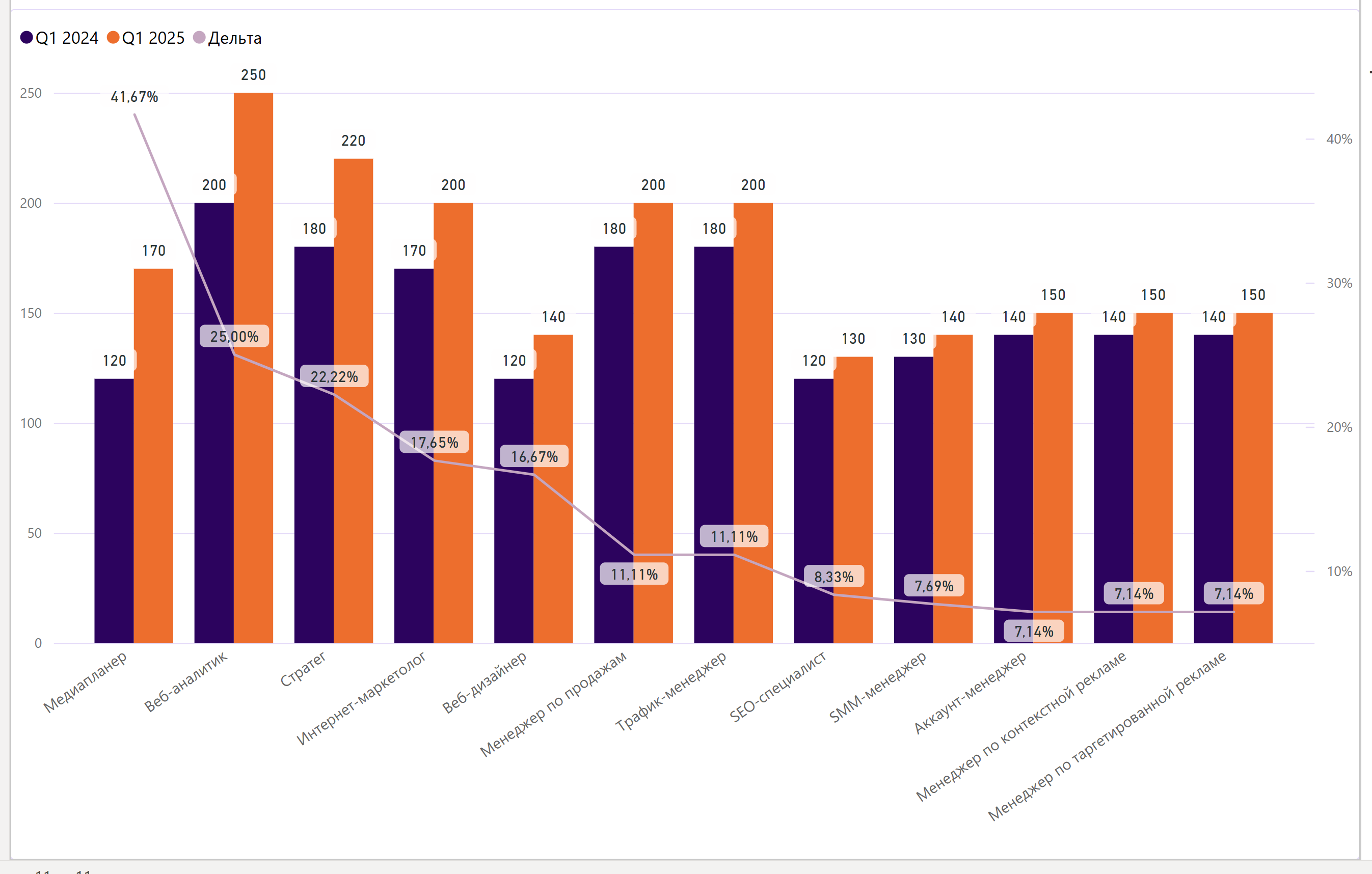











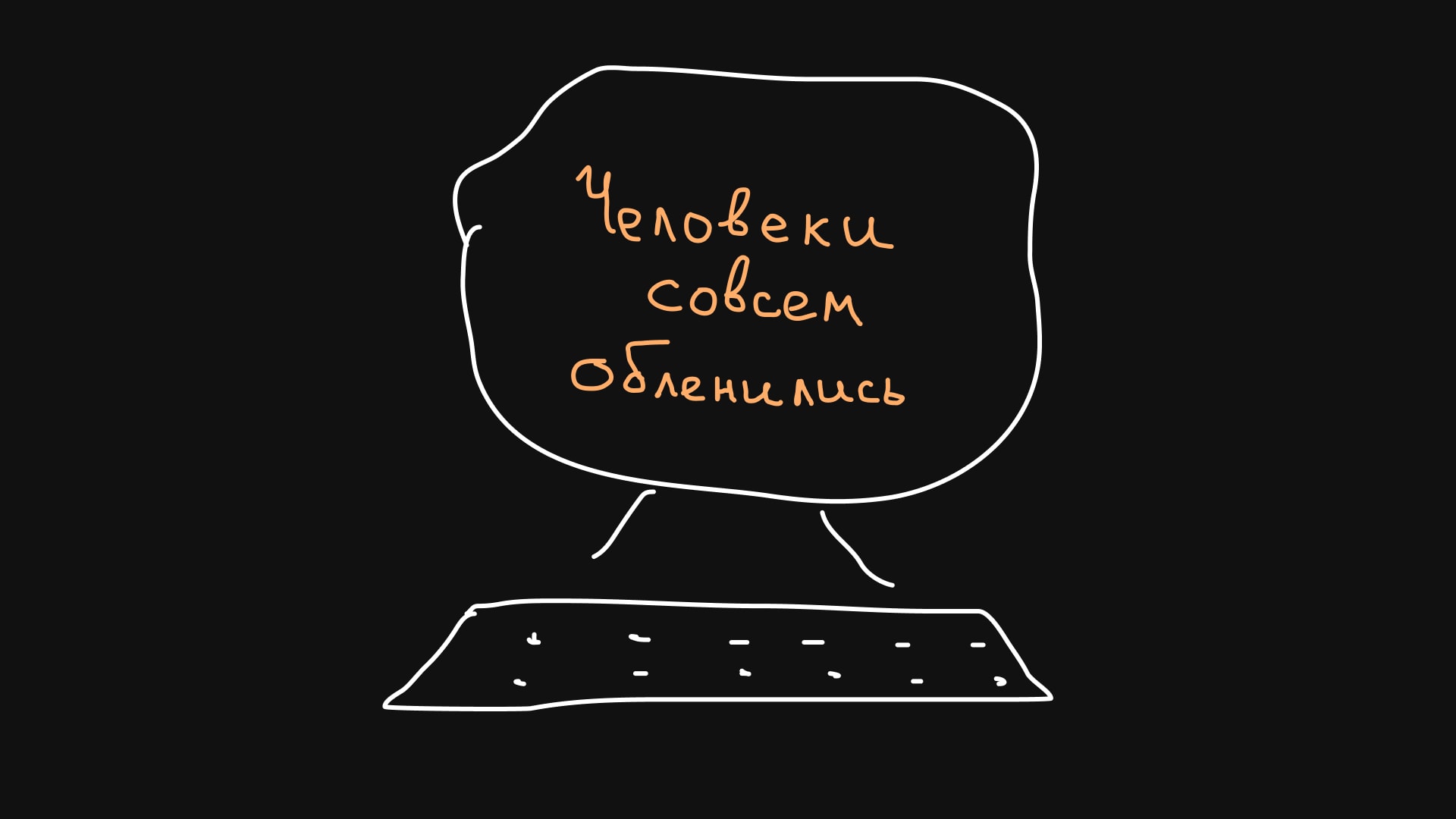








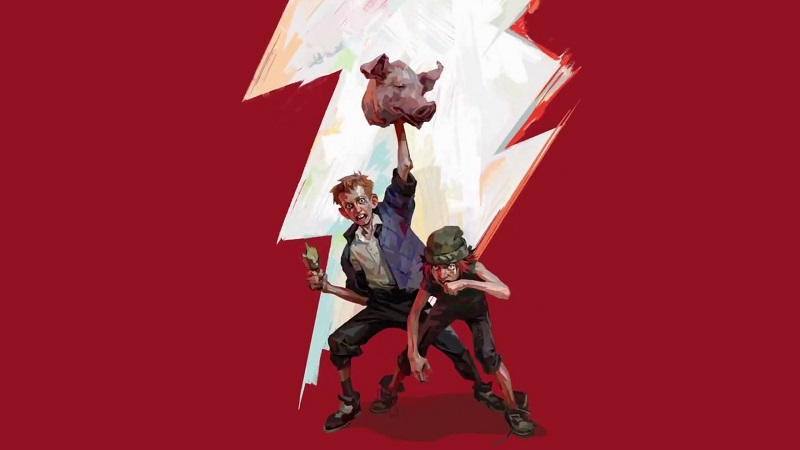



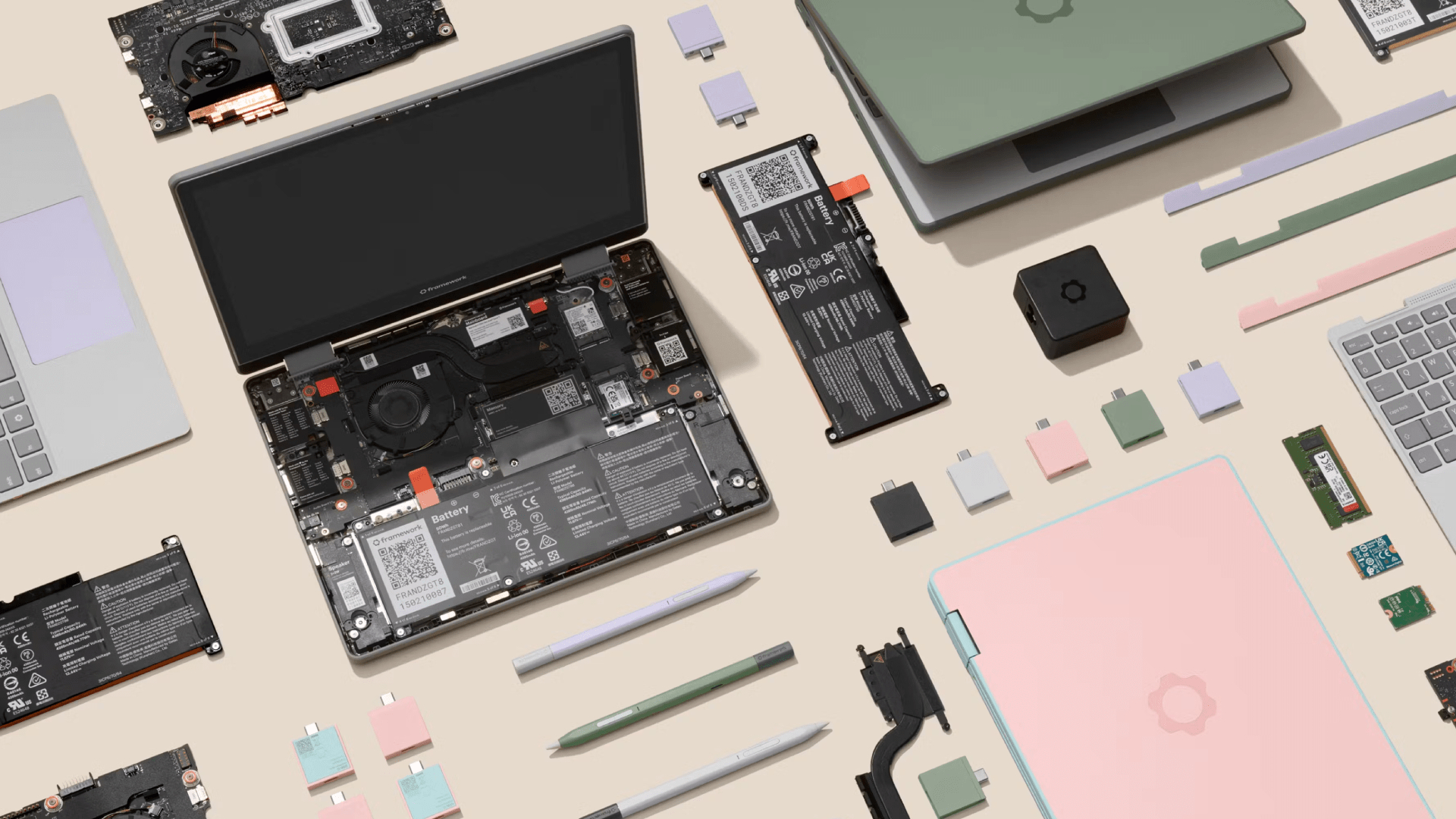

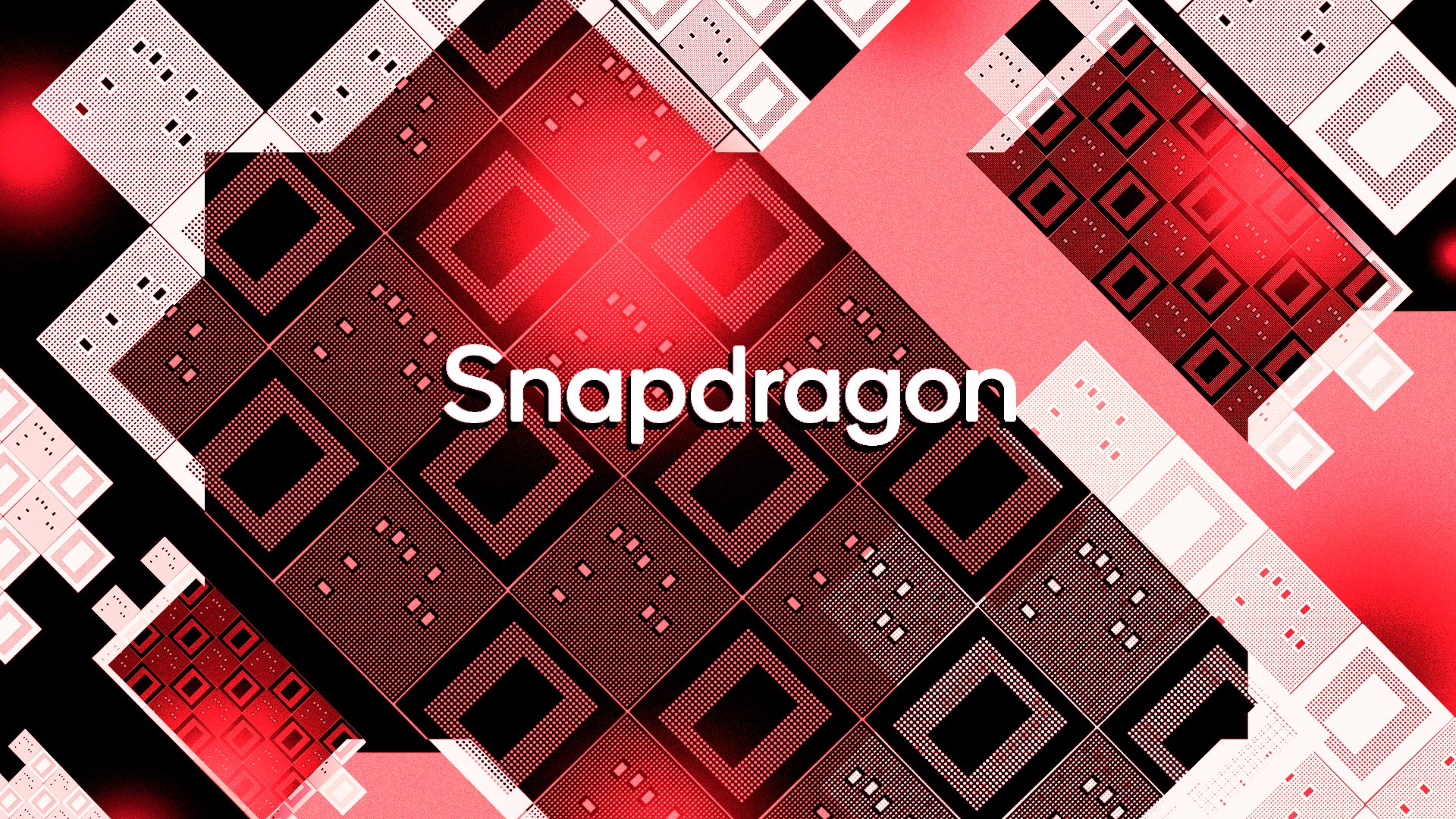







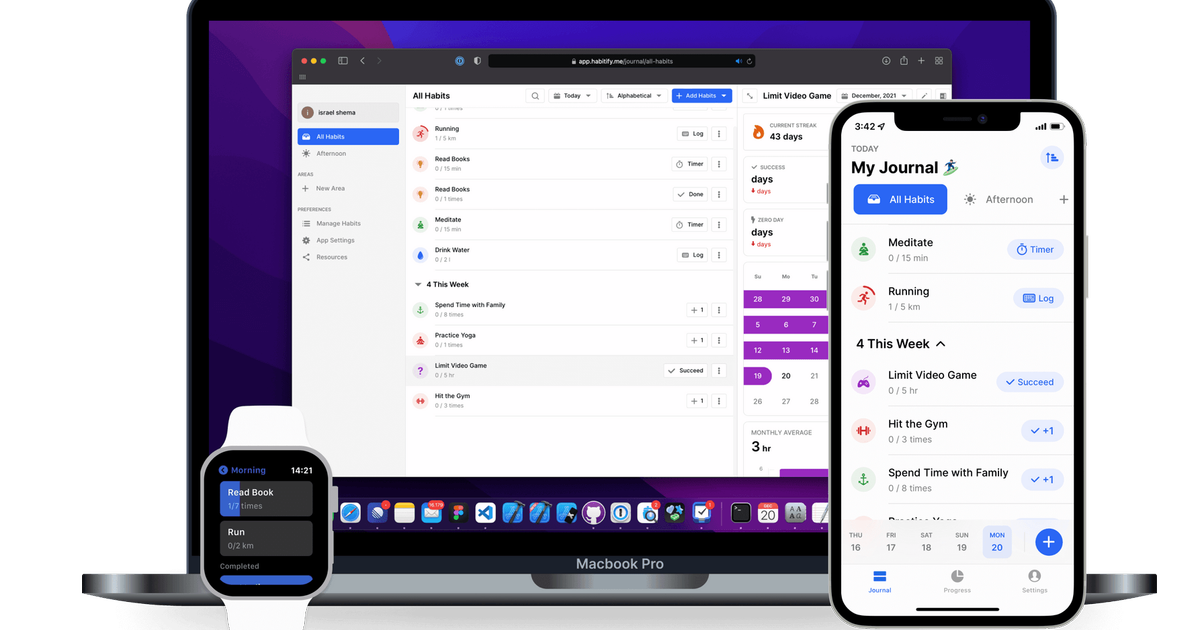







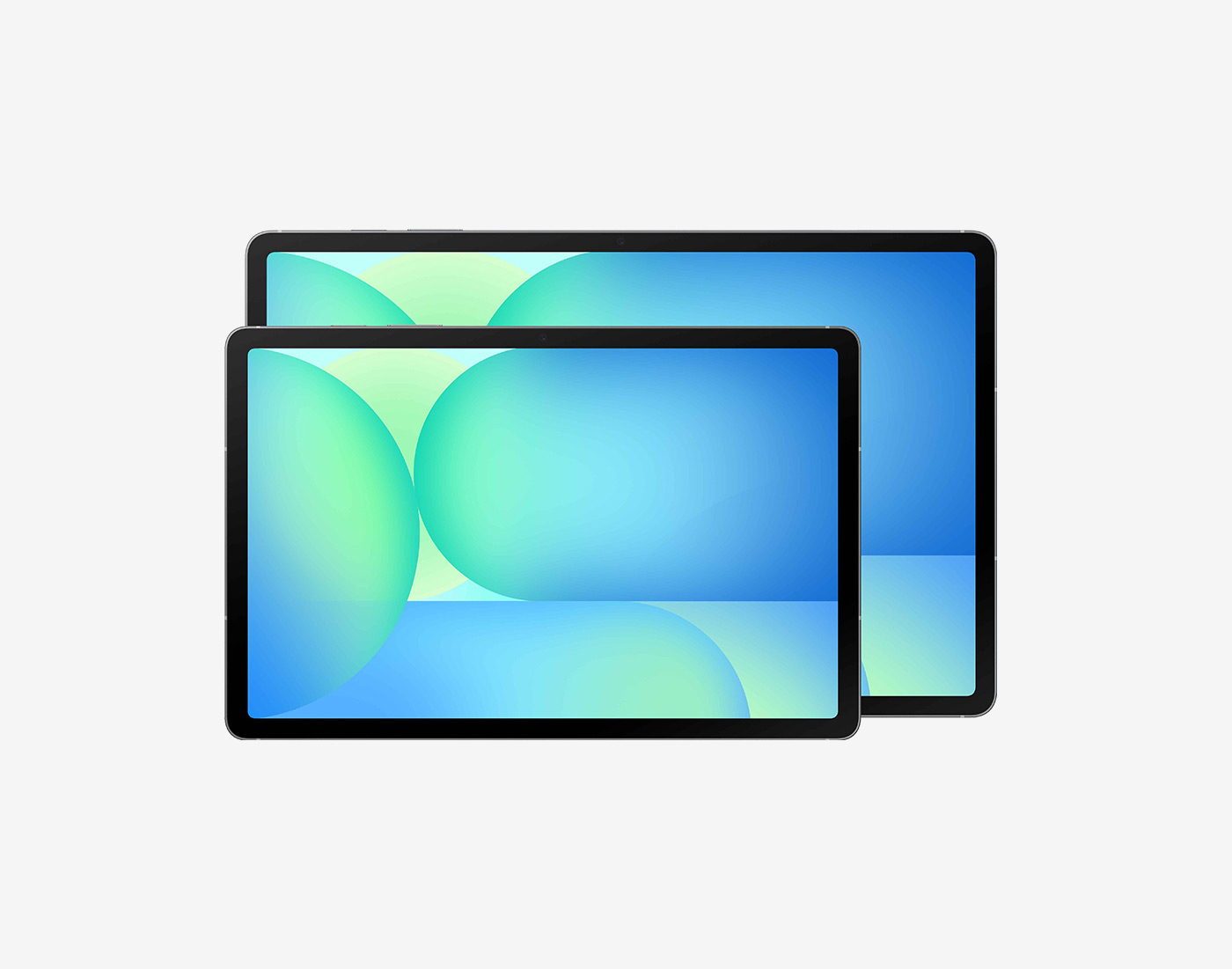
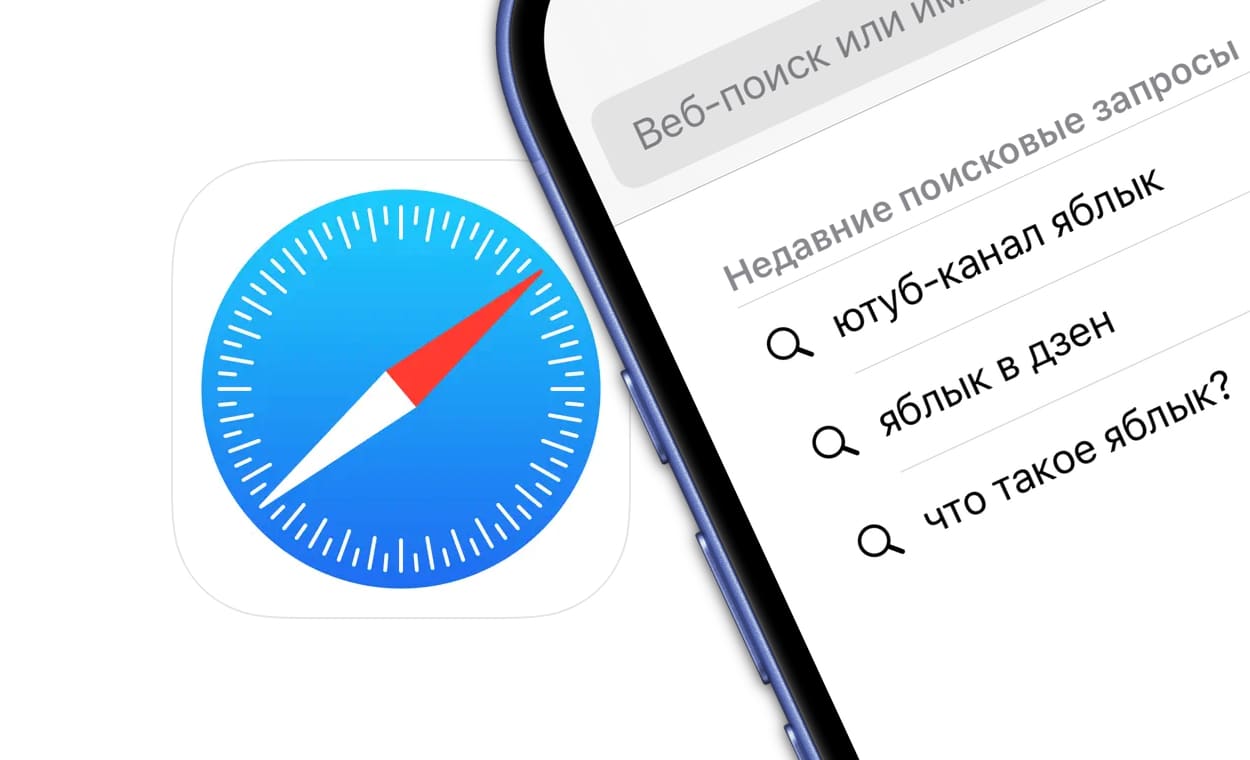


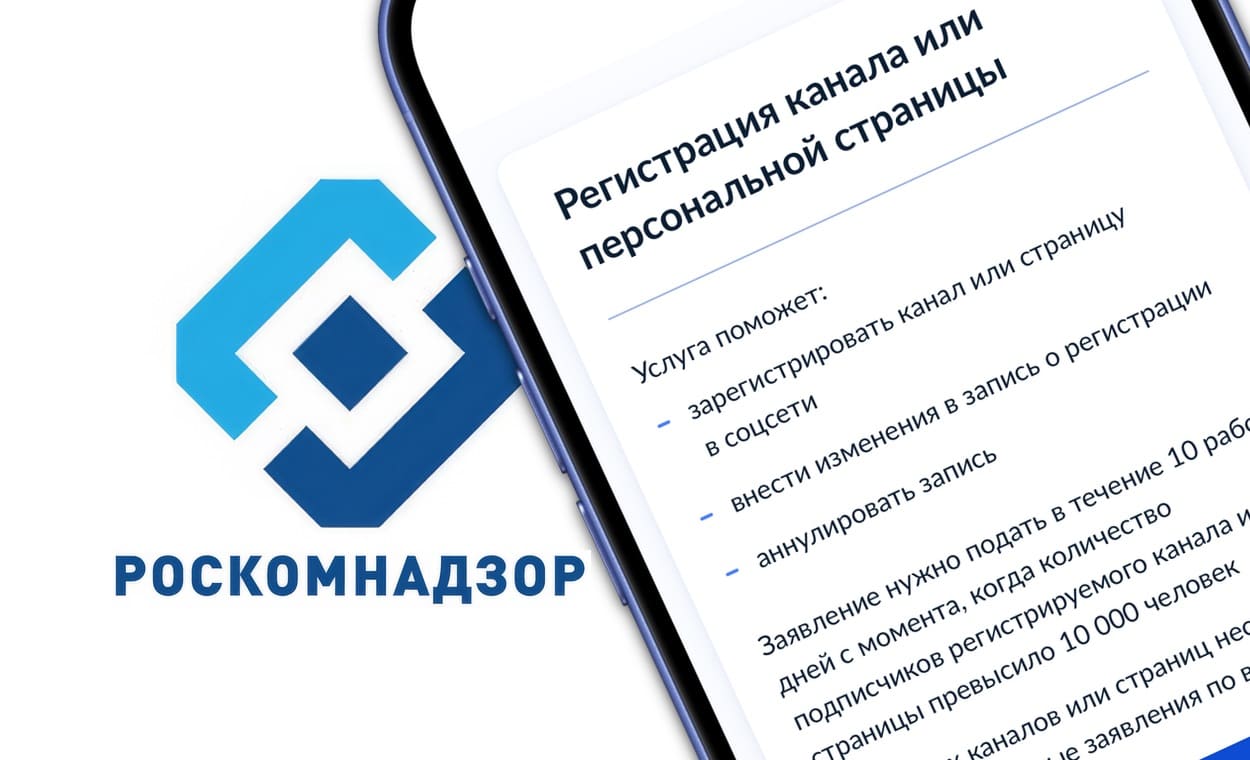

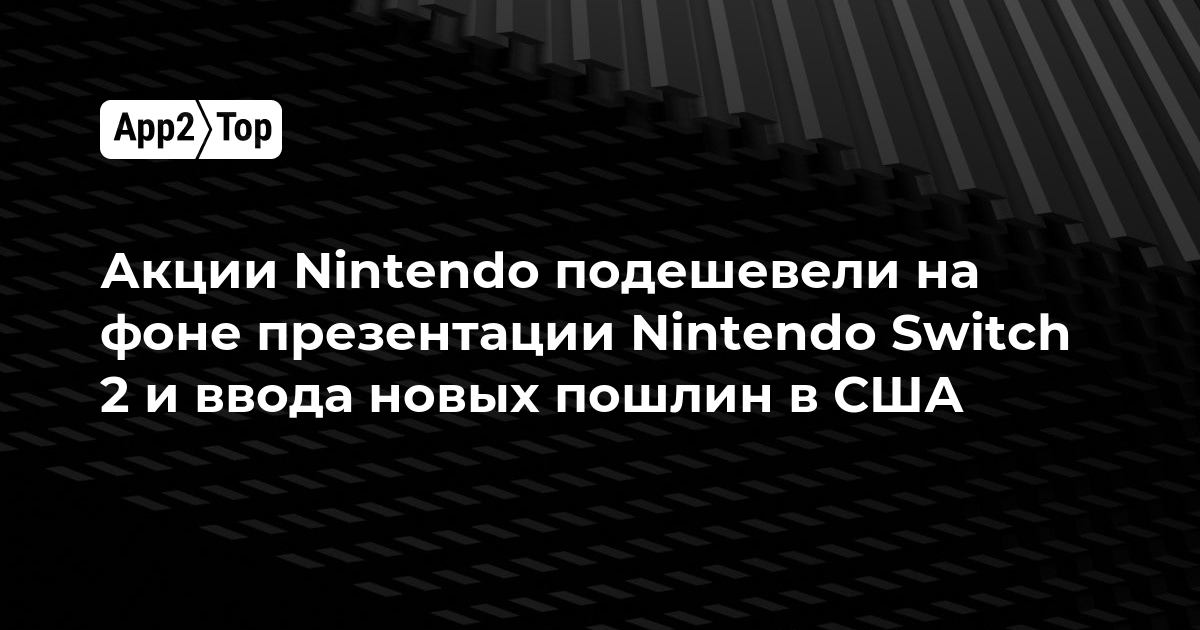
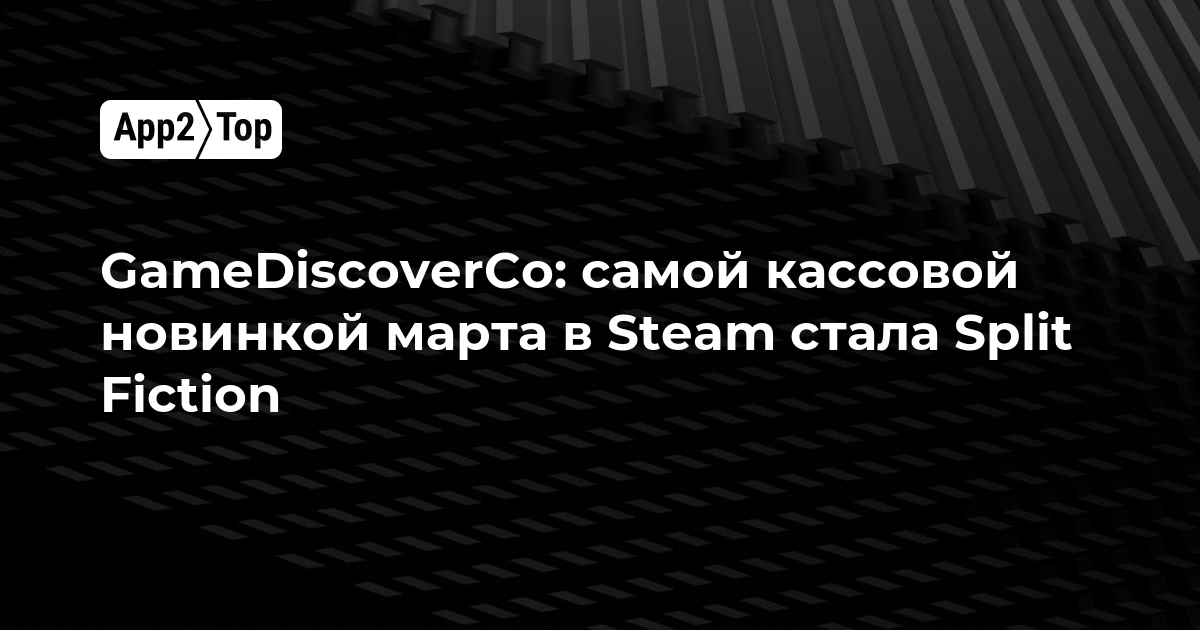
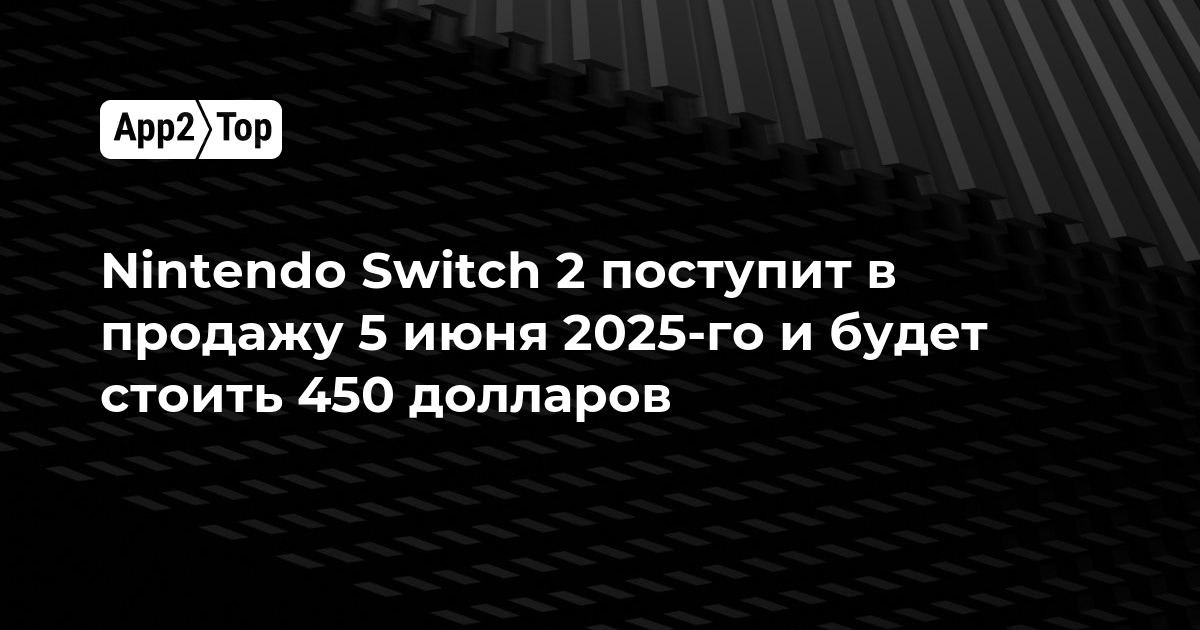
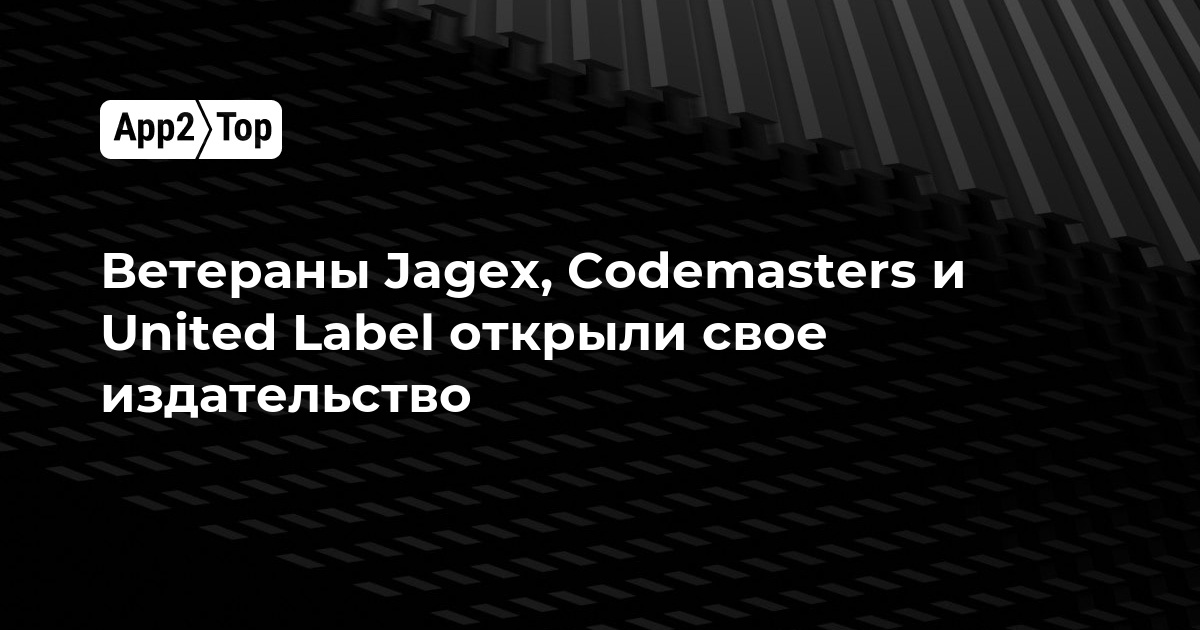

























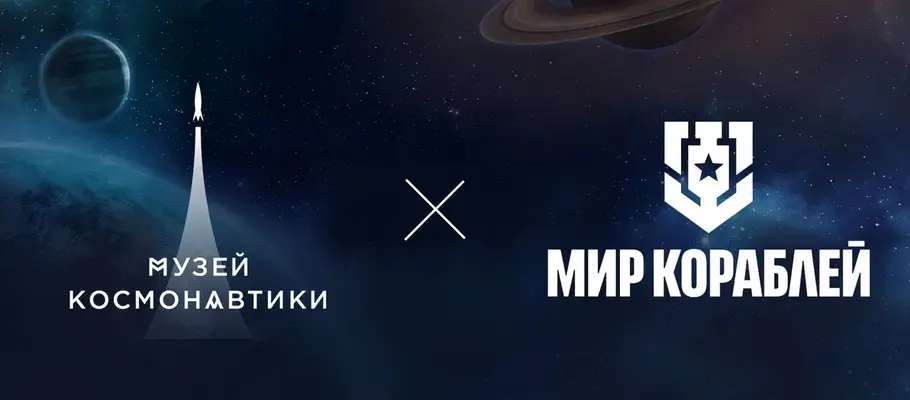




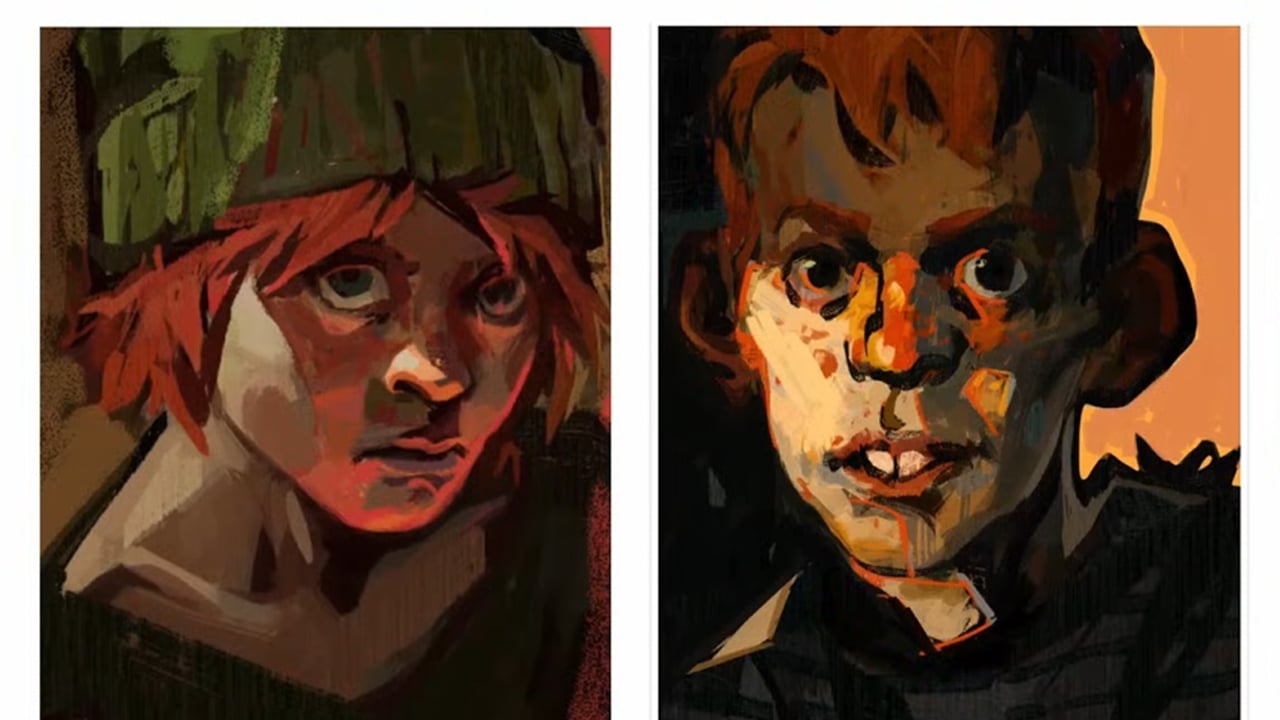








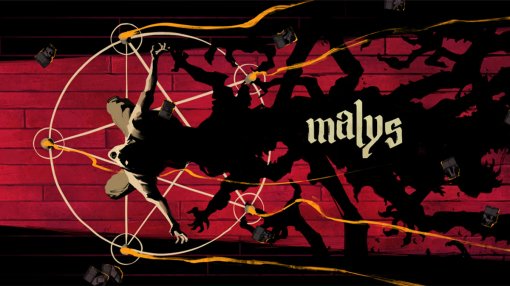

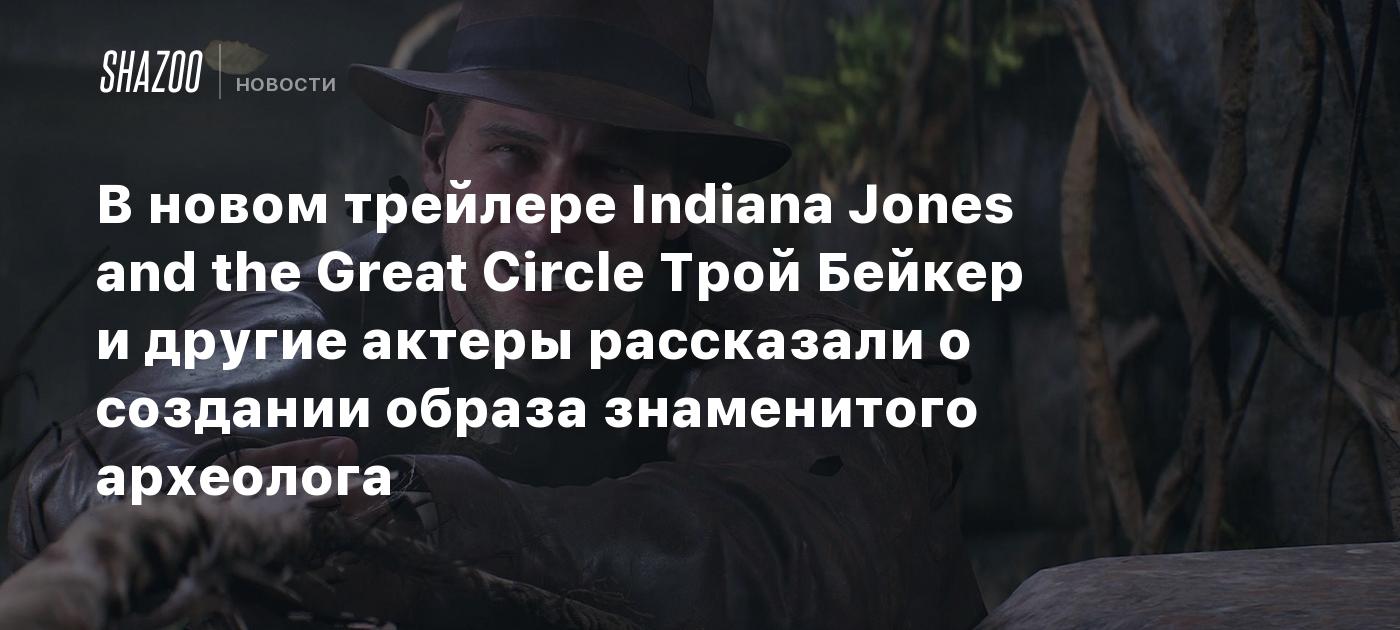
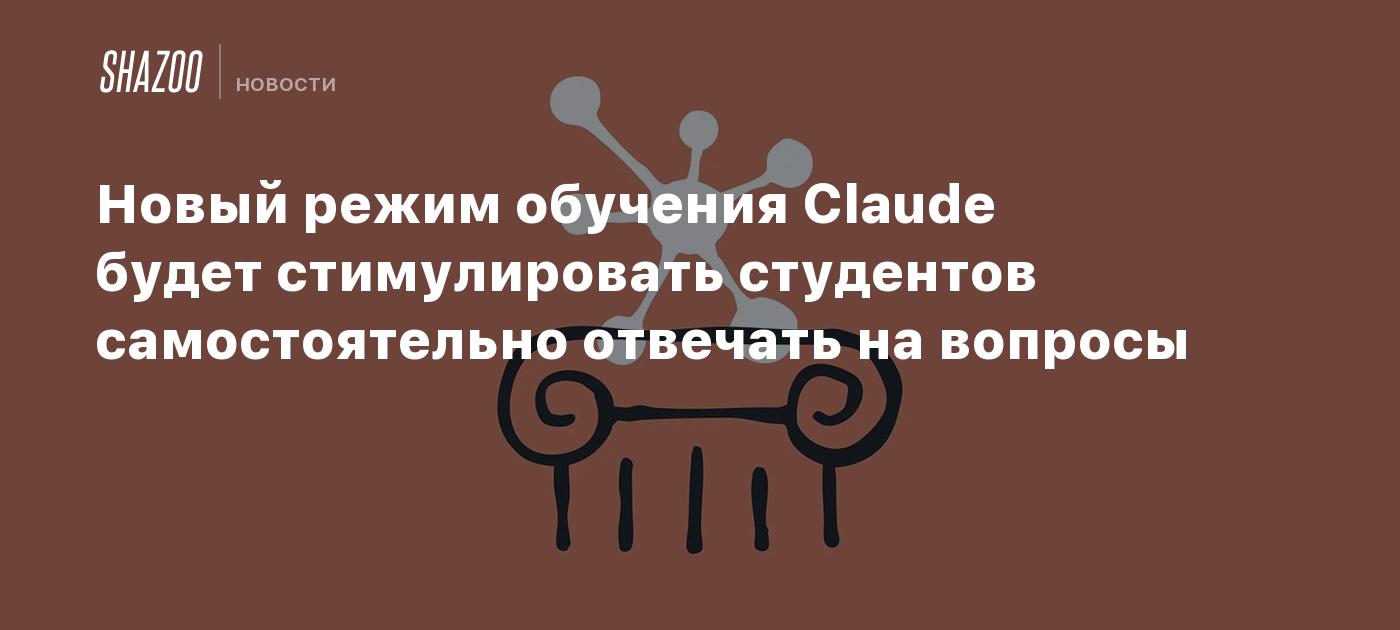
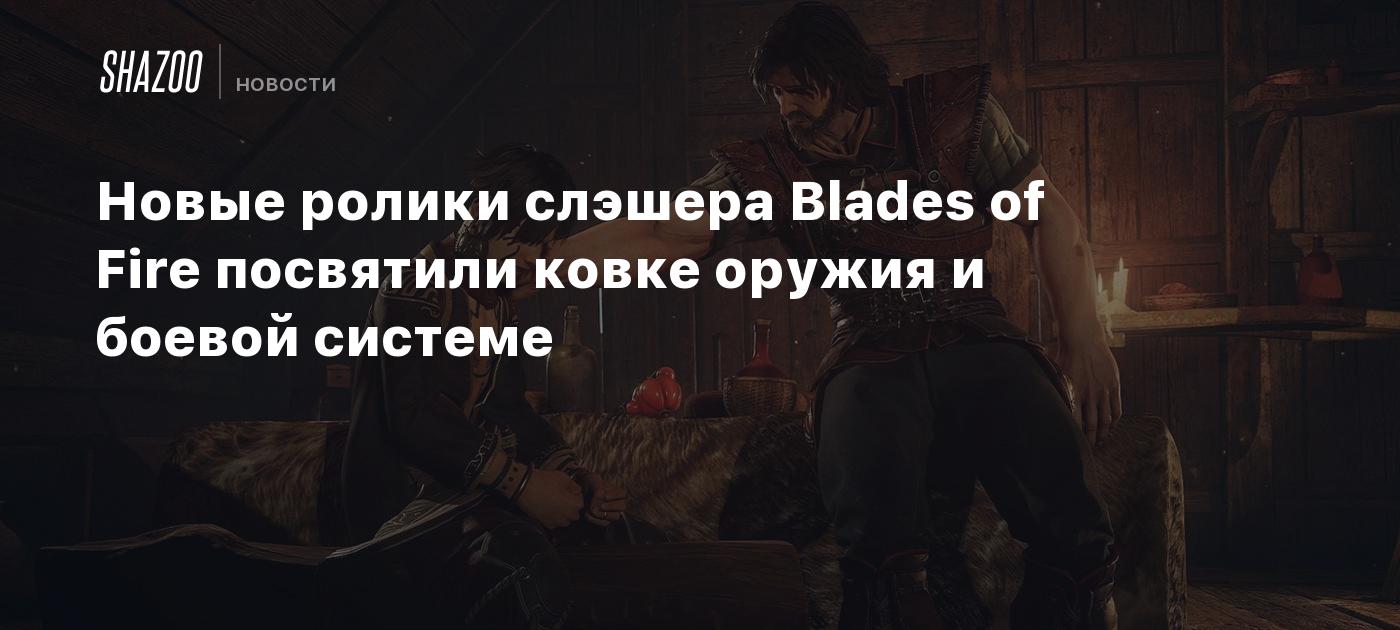
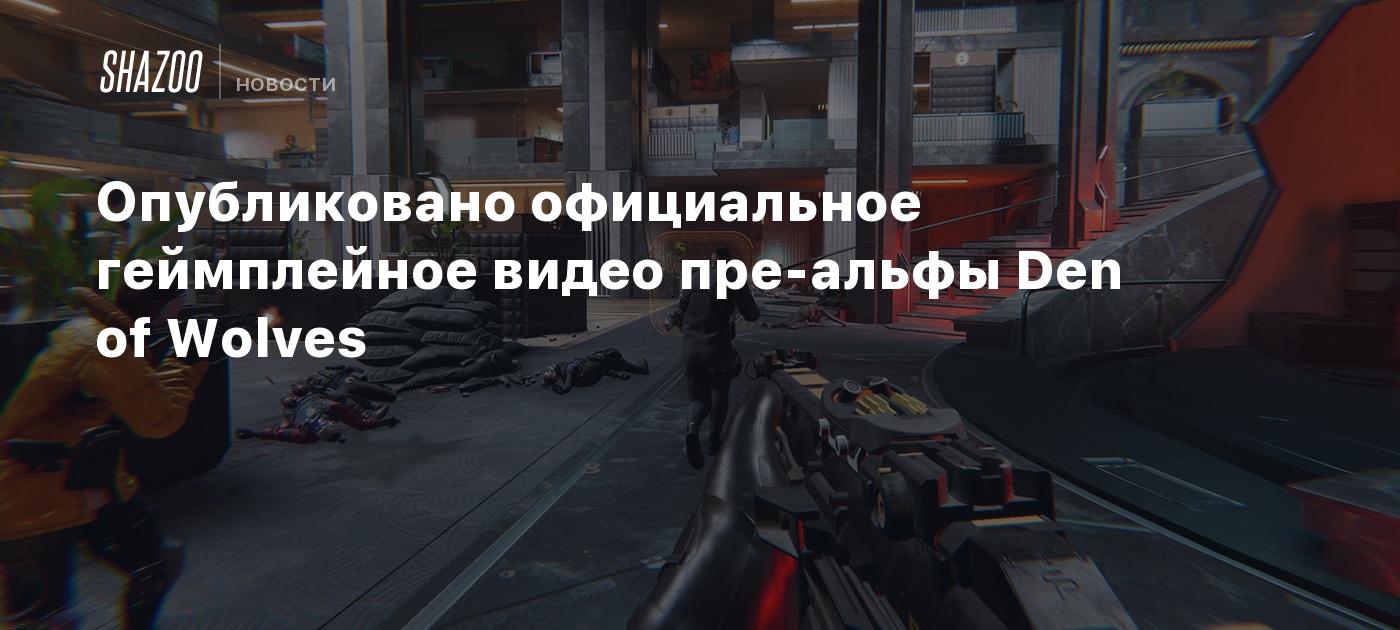







![Революция и одиночество в Аду. Обзор кооперативного «рогалика» 33 Immortals [Ранний доступ]](https://ixbt.online/gametech/covers/2025/03/25/nova-filepond-Av0xGB.png)




![С миру по нитке (Зарубежье) [01.04.2025]](http://tesera.ru/images/items/2466277,15/125x125xpa/photo.png)